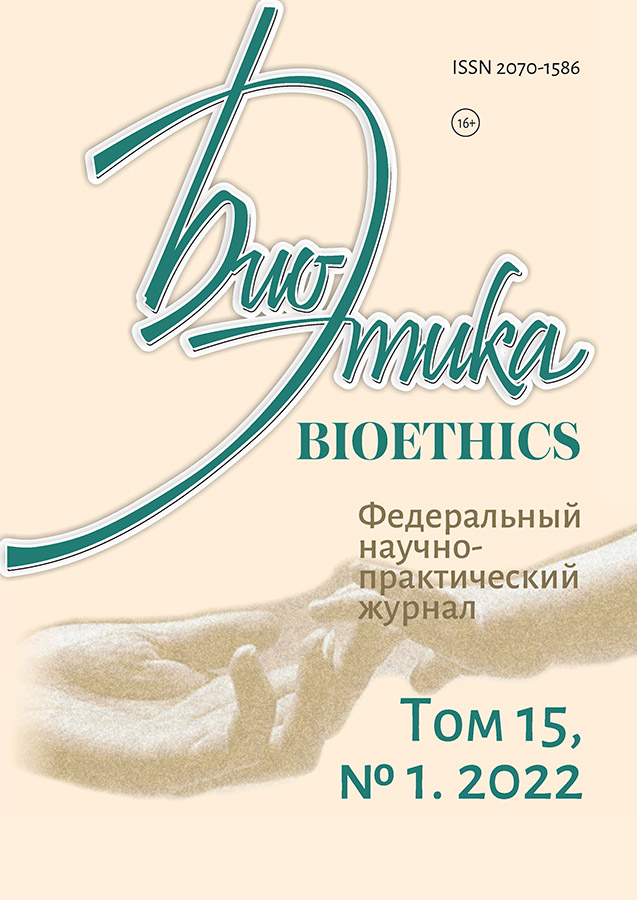Healing is an active merci and the foundation of solidarity. Discussion about the past and future of bioethics dedicated to the 75th anniversary of Pavel Dmitrievich Tishchenko
- Authors: Tishchenko P.D.1, Sedova N.N.2,3, Petrov K.A.2,3
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
- Volgograd State Medical University
- Volgograd Medical Research Center
- Issue: Vol 15, No 1 (2022)
- Pages: 6-18
- Section: Theoretical bioethics
- URL: https://bioethicsjournal.ru/2070-1586/article/view/108179
- DOI: https://doi.org/10.19163/2070-1586-2022-15-1-6-18
- ID: 108179
Cite item
Full Text
Abstract
Pavel Dmitrievich Tishchenko, one of the founders of Russian bioethics, turned 75 on January 10, 2022. Joining the numerous congratulations, journal “Bioethics” publishes the text of the discussion dedicated to this event. The discussion was initiated by the question of the history of Russian bioethics formation in the perspective of its simultaneous emergence in Moscow, Volgograd, St. Petersburg, Kazan. The participants exchanged opinions on the significance of I.T. Frolov's ideas for the formation of the Moscow School of Bioethics. The influence of the concept of "frontier" proposed by Tristram Engelhardt Jr. on the formation of distinctive features of Russian bioethics was revealed during the discussion. It is emphasized that at the early stages of its formation Russian bioethics was more concerned with the problems of clinical trials than with the moral dilemmas arising from medical practice. An important stage for self-understanding of bioethics was the events of the Afghan company, which exposed the imperfection of the healthcare system in the USSR. The discussion touches a critical examination of the traditional principles of bioethics. The conversation of the philosophical foundations of modern bioethics allowed to formulate two theoretical opinions. The firs assertion determines that philosophical theories delay with revolutionary changes in the field of medical and scientific practice. The second one determines the need for the formation of stable teacher-student relations sufficient for enculturation with the tradition of thinking. The participants noted the undoubted humanizing influence of these principles on clinical practice and scientific research. At the same time the risks associated with an attempt to transfer the principles that was established in the Western tradition into the practices of Russian medicine and science were identified. Speakers claimed the idea of harmonization the principles to the traditions of Russian philosophy and ethics. Thus, the medical art should be conceived as an active mercy, and many bioethical problems as social challenges that require solidarity. It was noted, that bioethics is transforming from type of value-based communication of specialists to a formalized procedure.
Keywords
Full Text
Тищенко. Я абсолютно убежден, что подобные встречи нам всем дают вдохновение. Если вспоминать начальные для биоэтики 90-е годы, то ни в коем случае нельзя утверждать, что идеи, ценные для ее формирования, шли из Москвы в регионы. То, что вы, Наталия Николаевна, начинали, что началось в Казани, в Санкт-Петербурге, в других местах, включая Москву, – были совершенно «синхронные» процессы. Они друг друга поддерживали и стимулировали здоровую конкуренцию, желание сделать (например, курсы лекций) не хуже, а, может, лучше других. Поэтому полагаю, что точка зрения представителей московской академической школы (прежде всего Г.Л. Белкиной и С.Н. Корсакова), интерпретирующих историю отечественной биоэтики сквозь призму идей академика Ивана Тимофеевича Фролова, является верной, но особенной. Так, действительно видится из окна комнаты на Волхонке, выходившего на «цековскую» бензоколонку, бассейн, а затем – храм Христа Спасителя. Через шесть лет после смерти И.Т. Фролова я сел за стол руководителя сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики ИФ РАН и увидел мир отечественной биоэтики через то самое окно…
Для меня такой взгляд был естественен. Много лет назад (около 1975 года), только приступая к работе над кандидатской диссертацией, нашел в Ленинке кандидатскую диссертацию И.Т. Фролова. Через Ивана Тимофеевича понял смысл кантианского осмысления целесообразности феноменов жизни. С тех пор он (кантианский смысл) выступает основанием (предпониманием) моего понимания проблем биологии и медицины. Возможно, в идейном смысле мой долг перед И.Т. Фроловым этим подарком исчерпывается, но не это главное!
Я пришел в философию, заочную аспирантуру Института философии, как «врач-биохимик», получивший домашнее философское образование в кружке В.В. Сильвестрова. Штудировали диалоги Платона по выходившему в то время (конец 60-х – начало 70-х годов) переводу его сочинений. Потом Аристотеля. Просто читали выходившие тома и обсуждали. Абсолютно ничего политического, марксистского. Два последних доклада нашего кружка – это доклад Алексея Козулина по Августину и мой по неоплатонизму Плотина.
Поэтому, придя в официальную философию, я не мог сразу понять – как себя в ней поставить, как себя вести? Иван Тимофеевич подсказал мне эту позу или позицию – спокойно, уверенно, в определенном смысле, нагло – утверждать то, в истинности чего ты убежден… Понял и никогда не менял этой позы. Другим того же посоветую… Наши административные отношения с Фроловым не сложились. Никогда не был его подчиненным. Но, работая по разным грантам вместе с Борисом Юдиным, много раз был вовлечен в совместные исследования, знаком был лично. Поэтому вполне усвоил перспективу и манеры московского академического биоэтического сообщества, для которого И.Т. Фролов был тогда естественным центром и, в определенном смысле, локомотивом.
Мир других российских биоэтических исследований, в том числе и волгоградских, для меня раскрылся именно через Бориса, который после моих зарубежных стажировок в США, Уэльс и Германию в середине 90-х стал приглашать меня на российские, как он называл, «посиделки». Он, в частности, познакомил меня с Н.Н. Седовой. Было полное ощущение, что его знали все более или менее причастные биоэтике в нашей стране. За рубежом он тоже знал почти всех.
Шла совместная творческая работа в разных медицинских и академических центрах страны. В этой работе участвовали различные ведомства (в частности, Минздрав), Дума, Академия меднаук, ее институты, среди которых хотел бы отметить Национальный центр хирургии (Б.В. Петровского и С.Л. Дземешкевича), кафедры философии медицинских вузов, кафедры этики и философской антропологии МГУ и многие другие. Наталья Николаевна, молодая и красивая, была тогда «закопёрщиком» многих наших встреч и обсуждений.
Именно благодаря этой синхронной работе без внешних модераторов у нас в 2000 году биоэтика стала обязательной дисциплиной для врачей, а ВАК потребовал в качестве обязательного условия утверж-дение протоколов исследования на человеке разрешение местного этического комитета. Не отрицая влияния Фролова, и организационного, и идейного (оно было очень велико), хочу подчеркнуть, что биоэтика, как «трава», проросла в оттепель 90-х годов прошлого века – сразу во многих регионах нашей страны.
Сегодня, переживая определенные «заморозки» в развитии нашей профессии, не теряю оптимизма. Сейчас нам судьба дала возможность сосредоточиться, отсеять пафосную риторику, красивую игру в бисер и имитацию правовых процедур от необходимости этико-правового, биотического анализа актуальных проблем, критично оценить свой инструментарий, выбросить лишнее и восполнить недостающее. Для биоэтики в нашей стране – все еще только начинается! За фасадом сиюминутных эксцессов остались фундаментальные проблемы качества жизни и выживания человека в современную эпоху. Никто кроме нас их осмыслить не сможет …
В любом случае свидетельствую, что ни в каком смысле биотические группы в Волгограде, Казани, Санкт-Петербурге, Минске (Беларусь), Киеве, Одессе (Украина), Твери или Новосибирске не были ослабленными «копиями» московской академической школы И.Т. Фролова. Они представляли оригинальные самостоятельные версии нашей общей дисциплины. Более того, даже внутри Института философии РАН корень биоэтики как минимум раздвоен. Сам термин «биоэтика» появился не во фроловском домене, а в секторе этики Института философии РАН. Некорректно рассуждать о начале биоэтики, забывая имя Людмилы Васильевны Коноваловой. Именно она инфицировала биоэтикой Бориса, а через него и меня.
История биоэтики в Институте философии очень сложная и интересная. Например, можно вспомнить, как, вероятно, в середине 80-х годов тема биоэтики в ее аутентичном смысле возникала у Людмилы Коноваловой и как ее личная инициатива была перехвачена и получила свое, более мощное развитие уже на другой почве. Ее же исследования так и остались в рамках прикладной этики. К сожалению, в стандартной истории российской биоэтики сегодня нет упоминаний о Людмиле Васильевне. Хотя именно она начала пробивать эту тему, использовать адекватную современную терминологию. Именно она организовала и провела конференцию с американскими биоэтиками «На грани жизни и смерти» в ИФ АН CCCР в 1989 году. Она продавила публикацию маленькой брошюры, в которой ведущие американские биоэтики (Д. Уиклер, Р. Витч, А. Каплан и др.) представили свои позиции. То, что она писала, мне непонятно, но то, что она сделала, – вдруг раскрыла для Бориса и потом для меня новый горизонт мысли – огромнейшее ей спасибо… Как будто история раскрыла через эту женщину перспективы, которые она сама не вполне понимала… То есть даже в ИФ АН СССР биоэтика рождалась из разных корней…
То, что касается России, то картина была еще более сложной. В разных центрах рождалась не просто своя особенная интерпретация биоэтики, но и из них происходили влиятельные этико-правовые инициативы, которые в то время мы все обсуждали. Я бы хотел подчеркнуть вашу роль, Наталья Николаевна, ведь вы были инициатором многих конференций по биоэтике, проводившихся Министерством здравоохранения.
Седова. В 1993-м году мы приехали на совещание в Минздрав. Там я услышала впервые, как Борис Григорьевич говорил про биоэтику, что надо ее вводить в учебный курс. А в 1998 году я была на философском конгрессе в Бостоне, мы очень тесно разговаривали с Фроловым. Оказалось, что по биоэтике тогда я одна выступала из нашей российской делегации. Вел у нас секцию Тристрам Энгельгардт младший, ныне покойный. Это замечательный был человек. И вот лично для меня биоэтика началась с разговоров с Фроловым, который очень ратовал за то, чтобы она развивалась и это развитие «шло из провинции», как он говорил. Я тогда не понимала, что он имел в виду. И, конечно, важную роль сыграл Тристрам Энгельгардт. Но как она зародилась, как она начиналась – это очень серьезный вопрос, а вот что с ней сейчас происходит, почему ее начинают опять прижимать – это вопрос не менее важный.
Тищенко. Давайте все же пока вернемся к началам. Во-первых, мне нравится то, что вы вспомнили Тристрама Энгельгардта младшего, с которым я был немного лично знаком. У меня есть очень близкие знакомые, с которыми я опять же познакомился через Бориса, – его техасские ученики. И мне кажется, что Тристрам был очень, я бы сказал, прагматичным человеком. Он свою философию называл философией «фронтира». И поэтому он симпатизировал тогда Китаю и России. Ему казалось, что в отличие от Запада, который был более или менее центрирован на глобальных стандартах идеологии прав человека, Китай и Россия выходят на фронтир традиционного морального самопонимания, на идейную границу с тем, что западной этикой не может быть осмыслено. Важно будет перевести на русский его тексты.
Петров. Мне сейчас хотелось бы выделить два момента: во-первых, идея фронтира. Как он ощущался в Москве, как он ощущался Волгограде? И второе, что это было за состояние, в котором неожиданно люди поняли, что им нужна биоэтика? Эти вопросы позволят нам понять направление развития биоэтики, проблемы, с которыми она сталкивалась тогда и сейчас.
Тищенко. Идея и эстетика фронтира, в американском смысле, известна нам в эстетической форме американских боевиков. В мегаполисах восточного и западного побережья для выживания нужны опытные юристы, ловкие манипуляторы с моральными и юридическими законами. Как раз этим занимаются «биоэтицисты» типа А. Каплана. «Добродетели» этой профессии развивает биоэтика в ее мегаполисной глобалистской интерпретации.
В зоне фронтира – насильственного столкновения с дикарями (индейцами) и бандитами нужны другие моральные качества – верность, товарищеская взаимопомощь, умение драться и стрелять с колена. Этос фронтира, в котором доминирует общий интерес над частным, Энгельгардт обнаруживал в советской деонтологии и китайском конфуцианстве…
На язык просится несколько отвлекающее соображение. Полагаю, что Советский Союз разрушили не только инсинуации Запада или трагические судьбы героев инакомыслия. Его изнутри сознания молодых поколений разрушила «Великолепная семерка». Моментально российские ребята, к которым отношу себя, стали ковбоями, стали носить нечто напоминающее джинсы, шляпы с загнутыми полями, ковбойки и шнурки вместо галстуков. Они себя узнали как американцев, ковбоев… Естественно, когда это поколение пришло к власти в СССР – основание для американских заимствований, подражаний Америке уже существовало…
Сразу, хотел бы предостеречь «консерваторов» – проблема не в американской кинопродукции, а в тупой бессмысленности сусловской идеологии, которая не давала возможностей постоянно приходящим новым поколениям понять эстетически (жизненно-практически) себя.
Это было потом…
Для меня как начинающего биохимика середины 60-х годов этос фронтира ближайшим образом связывался с войной против рака и смерти… Этот этос формировал моральное основание биомедицинских исследований. Я был счастливчиком. Мне очень часто везло. Сначала обучался как медицинский генетик у известного генетика и теоретика системного анализа Александра Александровича Малиновского – сына Александра Александровича Богданова. И он был руководителем моего дипломного проекта. Параллельно штудировал под руководством В.В. Сильвестрова и Л.С. Черняка Платона, осваивая богатства философской мысли.
Не очень понимал – смогу ли ей заниматься профессионально, но к началу 80-х годов уже началась афганская компании и возникла огромная проблема с набором солдат. Руководство страны задумалось над тем, как улучшить здоровье населения и будущих призывников. Вследствие этого возникла национальная программа здоровья, была проведена общая сессия академии медицинских наук и «большой» академии наук, были заседания многочисленные. Мне после рассказывали, что политбюро просто думало, как найти солдат и ужасалось невозможности найти здоровых призывников. На начальном этапе выделили для междисциплинарного исследования ставки в академических институтах философии, государства и права, психологии и социологии для исследователей. Вот эти 4 института получили примерно по 4–5 ставок. Точно сейчас не могу сказать. Их задачей была разработка идеи организации системы здравоохранения, чтобы она, в частности, готовила здоровых призывников. Этой идеей были озабочены люди во всех эшелонах власти в советском Минздраве, в ЦК КПСС, в его отделах и т.д. В возникшей структуре института философии появился и я, благодаря поддержке И.Н. Смирнова и И.Т. Ойзермана.
Произошедшие изменения санкционировал Черненко Константин Устинович, тогдашний генсек. А после его смерти все про нас забыли. И я начал заниматься уже философией сам по себе. В любом случае, я совершенно четко помню эту интенцию к междисциплинарному сотрудничеству. Проводились совместные семинары и конференции, но никаких решений из всех этих очень разумных обсуждений и конференций не последовало. Поэтому вся советская стадия у нас была, скорее, как накопление чего-то: опыта, идей, представлений… А в реальности ничего не выходило, несмотря на достаточно плотные связи с руководством страны. Это все было не на уровне того, что «вот у нас есть идея, нам никто не хочет помочь». Наоборот, нам говорили: «Делайте!». А сделать ничего практически было нельзя. Это то ощущение, которое я перенес из Советского Союза. И я точно помню, когда мы начинали заниматься биоэтикой в 90-х годах с Юдиным, с нами был Огурцов Александр Павлович, который наши начинания активно идеологически поддерживал… понятно, что надо было менять базисные структуры здравоохранения, менять систему взаимоотношений медицины и общества.
Петров. Павел Дмитриевич, я правильно понимаю, что на этапе позднесоветском была потребность в поиске новых форм регуляции медицины и взаимодействия медицины с обществом? И эта проблематика потом превратилась в биоэтику?
Тищенко. Да, это очень важный аспект, о котором вы говорите. Потому что биоэтика возникала у нас не с нуля. Но в началах еще само слово биоэтика не фигурировало, а были проблемы философии медицины и здравоохранения. Я занимался проблемами психосоматики и даже умудрился статью во французском журнале опубликовать на тему «тело как машина и текст». На основе этих идей рождались предложения, которые в принципе нельзя было реализовать в Советском Союзе. Разумная душа была отсечена от социального, политического тела. И, главное и печальное для меня – очень нереалис-тичным оказался следующий этап: уже после распада Советского Союза, когда для понимания происходящего погрузились в западную литературу. Мы стали пытаться воспринимать идеи западной биоэтики, что-то заимствовать. Но с самого начала была осознана концептуальная сложность невозможности помыслить казусы, на которых строится американская биоэтика, с отечественными ситуациями в контексте врачевания. У нас никто про это вообще не говорил. Не могли найти в медицинской литературе описаний моральных казусов. Некая безмолвная медицина. И это при том, что западная медицина разрабатывала свой концептуальный аппарат, используя русскую классическую литературу. К примеру, восприятие проблем умирания и смерти шло через многочисленные штудии повести Л.Н. Толстого – «Смерть Ивана Ильича». Мы – носители этого культурного наследия – знали о биотическом смысле этого произведение хуже среднего преподавателя биоэтики в США. Поэтому, столкнувшись с новой ситуацией в медицине и здравоохранении, прежде всего обратили внимание на либеральные принципы и правила отношений «врач – пациент».
Много раз мы с Борисом Юдиным предлагали во всякие инстанции идею образовательного комплекса по биоэтике. Он должен был включать хрестоматию отечественных и зарубежных литературных произведений, в которых бы раскрывался гуманистический смысл врачевания, в учебник для конкретной медицинской специальности и учебное руководство для преподавателей этой специальности… Надеюсь, что эта идея получит свою реализацию.
Эта сомнительная скромность получила отражение в универсальном законодательстве о здравоохранении 1993 года. Кто-то просто списал у кого-то за рубежом. Практически без обсуждений внедрили либеральную модель, которая никаким боком не налезала на реалии отечественного здравоохранения. Но разве проекты реформ науки, образования и медицины, которые под лозунгом «рационализации» продавливаются сегодня, свои? Очень в этом сомневаюсь.
Если вы посмотрите идеологию закона 1993 года и сравните с аналогичным законом 2011 года, то вы увидите явный сдвиг. С одной стороны, этот сдвиг лишает людей каких-то прав и свобод, обозначенных в законе 1993 года. С другой – мы понемногу начали приближение к реальности. Это был очень важный момент в истории нашего здравоохранения. После декларативных утверждений о правах пациентов начался внутренний процесс приближения к реальности медицинской практики. И, несмотря на все несовершенства, это движение, мне кажется, в нужном направлении. В законе 1993 года был один отдельный артикул – «права пациентов», четко их перечислявших. А потом много лет шло обсуждение: что-то можно, что-то нельзя, а что-то, кажется, совсем не так работает, как предполагалось. Но при всех недостатках, как полагают некоторые юристы, закон 2011 года более практичен.
Но не только закон приблизился к медицинской практике, но и сама практика «вестернизировалась», начав трактовать базисный смысл врачевания как «предоставление (в том числе и продажу) медицинских услуг», а не как «медицинскую помощь». Но на космополитичном по своей природе рынке патернализм неуместен. Здесь вполне уместны права потребителей медицинских услуг.
Петров. Наталья Николаевна, Павел Дмитриевич рассказал о становлении биоэтики в Москве в позднесоветский период и в начале 90-х. Может быть, какие-то воспоминания об этом периоде есть и у вас? Какая была ваша личная траектория, что привела вас к биоэтике? Какие обстоятельства, например институциональные, в Волгограде препятствовали либо благоприятствовали появлению биоэтики?
Седова. Во многих провинциальных вузах, когда люди созрели до образа биоэтики, этот образ должен был взяться откуда-то. Мой заведующий кафедрой, профессор Матвей Абрамович Свердлин, еще в ранней молодости заставил меня читать студентам медикам этику. Я ее не любила, потому что в МГУ у нас преподавали ее в то время не очень интересно. Но мне пришлось начать ее изучать. И когда впервые прозвучало слово биоэтика – кто-то делал доклад и упомянул как новое движение, тут открылась дверь в новый мир! То есть, пребывать в лоне этики было довольно скучновато, а биоэтика означала непосредственную связь с медициной. То единственное, что соединяет гуманитарные науки и медицину – это биоэтика. Мы создали этический комитет, чуть ли не первый в России. Тогда начали налаживать связи, и оказалось, что в Казани ей занимаются, в Санкт-Петербурге занимаются. И так пошел и образовался небольшой, но очень прочный кружок. Связи тогда такой, как сейчас, не было. И, естественно, приходилось писать письма, ездить в Москву, встречаться на конференциях и круглых столах, да и вообще, где только можно было.
В 2000 году мы провели семинар Совета Европы, в организации которого очень помог Борис Григорьевич Юдин. Этот семинар был посвящен проблемам клинических исследований с участием человека, тогда это было очень актуально. Мне, честно говоря, не нравились всегда два момента. Первое – это то, что био-этику, порой, сводят к этике клинических исследований, а такая тенденция есть. Тем более, с тех пор как к нам пришла западная традиция проводить этическую экспертизу этих исследований, это стало ведущим направлением. Почему я с этим не согласна? Потому что в практической медицине проблем гораздо больше. Причем они вырастают из некоторых философских установок, поэтому, я думаю, биоэтика должна быть очень востребована среди представителей врачебного сообщества. Вот биоэтики занялись новыми биотехнологиями, а случилась пандемия коронавируса, и оказалось, что у нас по этике инфекционных заболеваний только одна книжка Ольги Иосифовны Кубарь. Тогда она принимала участие в работе европейского комитета и могла оказывать реальную помощь. Когда же официально ввели био-этику как учебную дисциплину в медицинских вузах, то у нас сразу возникла идея сделать журнал «Био-этика», пока он единственный такой в стране, входит в перечень ВАК.
Второй момент, который мне не нравится. Биоэтика тяготеет к двум полюсам – философскому и юридическому. Правовые контексты биоэтики занимают большее место. Я понимаю, что деонтология и аксиология – это составные части этики. Я всегда задаю вопрос, а что у нас первично: оценки или нормы? Это подобно вопросу о курице и яйце. Что было раньше? Когда идет перекос в сторону права, я очень боюсь, что биоэтику формализируют. А она должна быть живая. К сожалению, сейчас началось наступление на биоэтику: сокращают курсы, убирают из учебных программ колледжей. Я не понимаю, почему это происходит. Казалось бы, сейчас она должна, наоборот, быть, так сказать, ведущим трендом! Но может быть, от нее пытаются отказаться, потому что она мешает внедрять те технологии, которые приносят быстрый доход, но не приносят счастья. Может быть, эта коммерциализация медицины немножко конфликтует с биоэтикой, и поэтому я очень боюсь, чтобы мы не пошли окончательно по западному пути развития биоэтики, где все прописано, все регламентируют строгие правила и инструкции. Этика отличается тем, что всегда есть выбор.
Петров. Павел Дмитриевич, у Натальи Николаевны было несколько интересных утверждений. Во-первых, это проблемное поле биоэтики. Действительно ли биоэтика сегодня ориентирована на клинические исследования? Во-вторых, я помню, что у вас была работа про науки в эпоху консьюмеризма. Как это состояние влияет на положение биоэтики?
Тищенко. Я думаю, что вообще в жизни, как и в биоэтике, или любой другой области, нужно понять, какое звено цепи рвется, и начать туда давить. Здесь нет движения, что называется, общим фронтом, здесь нужно знать, где узкое место. Клинические исследования были таким узким местом для биоэтики. Когда мы начинали в 90-х годах, у нас было очень мало фактического материала от «клинической койки». А то, что касается клинических исследований, – это была та область, в которой можно было что-то получить. И наши исследования – атомные или радиационные – были известны в Америке, их можно было соотносить с западной биоэтикой, также проблемы Нюрнбергского трибунала и кодексов тоже у нас исследовались. Тогда, в 90-е, мы давили там, где лучше прогибалось. А вот вся медицинская сторона была очень жесткая. Туда было очень трудно проникнуть, получить данные. Например, у нас были связи в детском отделе онкологического центра. Там работали и работают очень умные детские онкологи и очень много интересных проблем возникало: информирование детей, получение их согласия на операции по ампутации… Это жуткая была тема. Была там и тема, связанная с кросскультурными исследованиями. Иногда, начав лечение ребенка в этом онкологическом центре, родители прочитали объявление на столбе и тащили своего ребёнка к какому-нибудь знахарю, останавливая его лечение. И тогда возникла особая необходимость в создании правового механизма, чтобы остановить этих родителей, по крайней мере довести курс лечения до конца. Потом все же ребенок может навечно оставаться в стационаре.
Мое мнение состоит именно в том, что все, что прогибалось, мы старались так или иначе дальше продвинуть. В 1992 году вышел первый для нас закон о трансплантации органов, который до сих пор обеспечивает стагнацию этой области. Но тогда это было «ноу-хау», очень мощный прорыв, заключавшийся в том, что впервые клинические медики, академики Петровский и Шумаков – тогда его молодой оппонент, и мы, Борис Юдин, Сергей Дземешкевич, Иван Тимофеевич Фролов, Александр Иванюшкин собирались, обсуждали, ругались. Мой ответ состоит в том, что клинической биоэтике не повезло в том смысле, что в эту область очень трудно войти, нужно больше информации о ней, что там происходит. По большому счету, легче было там, где само рвалось, а в клинику мы не смогли прорваться. Но нашим клиникам нужны были деньги для выживания, их взять можно было только в клинических испытаниях – поэтому они продавили регламенты надлежащей клинической практики, которые и сегодня в наших стандартах.
Петров. Наталья Николаевна, у меня есть гипотеза. Может быть, в силу того, что в нашем университете было больше горизонтальных связей: между кафедрами, заведующими, – может быть, поэтому легче было работать с проблемами клинической медицины, чем с клиническими исследованиями?
Седова. У нас интерес к клиническим исследованиям никогда не преобладал над остальными проблемами биоэтики. Причина в том, что исследований этих тоже было очень мало. Сейчас их достаточно. Люди примыкают к каким-то иностранным фирмам, входят в исследование. А там уже все стандарты биоэтические и правовые прописаны, и, если ты участвуешь в исследовании, то должен строго их придерживаться. Мы, конечно, делаем замечания в соответствии с нашими традиционными этичес-кими ориентирами при проведении экспертизы этичес-ким комитетом. Но в стране изначально не было такого интереса к клиническим исследованиям. А вот формирование отношения к биоэтике как к принципиально новому способу мышления, я считаю, очень важно для понимания истории ее становления, и оно было. Но до сих пор биоэтика у нас себя не закрепила себя как научная специальность. Может быть, это наш менталитет сказывается. Я думаю, что интеграция в структуру социума должна бы быть более активной. А у нас в провинциальном вузе ректор-академик Петров Владимир Иванович, ныне президент, доносил до РАМН и Минздрава наши идеи. Биоэтика здесь развивалась благодаря тому, что был хороший ректор. Я всегда это говорила. Владимир Иванович Петров переживал биоэтические проблемы, считал их очень важными. Я до сих пор считаю, что личный фактор играл, зачастую, определяющую роль.
Петров. Коль скоро мы говорим о факторе личности в становлении биоэтики, я предлагаю обсудить личность Бориса Григорьевича Юдина, которого уже не единожды сегодня вспоминали.
Тищенко. Повторюсь – истоки биоэтики в России двойственны. Университетские кафедры этики до сих пор являются «кузницей» биоэтических кадров. В нашем секторе в ИФ РАН не менее половины научных сотрудников – этики. Другая половина – философы науки, представляющие философский «уклон», продолжают работу Бориса Григорьевича как члена команды Ивана Тимофеевича Фролова – исследование гуманитарных аспектов медицины, здравоохранения, современной науки, геномики и так далее. Когда они писали об этике науки, то не использовали слово биоэтика.
Здесь я расскажу свою очень частную, абсолютно не претендующую на историческую достоверность версию появления биоэтики. Я жил, работал в институте философии, у меня была интересная проблема – социо-биологическая. Я написал статью, опубликованную во Франции, о теле человека как тексте в биологии. Меня интересовала психосоматика и прочие подобные проблемы, я варился в этих проблемах. А рядом работал мой друг Борис Григорьевич, который занимался проблемами философии науки, проблемами собственно гуманитарных аспектов науки так, как понимал их Фролов. И здесь, где-то в конце 1980-х годов, появляется Людмила Коновалова, к тому времени, кажется, уже доктор наук. Наталья Николаевна уже отметила значение социально-гуманитарных и личностных отношений для формирования биоэтики. Коновалова имела очень серьезные отношения к тем кругам, которые могли позволять или не позволять поездки за рубеж, организацию международных конференций. Я не знаю, как Коноваловой пришла в голову идея заняться биоэтикой, но где-то в 1987 году, примерно, она пришла в наш сектор, где работал Игорь Николаевич Смирнов, бывший ученый секретарь отделения философии права Академии наук, и с ним согласовывала все вопросы приглашения американцев на конференцию по биоэтике. Она все организовала. И мне предложила переводить. И вот приехал Витч, приехал Каплан, другие… они проводят конференцию, а меня интересуют в это время другие вопросы: психосоматика, тело и душа. Я был задействован в нескольких эпизодах общения с Витчем и еще с несколькими людьми. И везде выступал как просто переводчик.
Борис Григорьевич мне говорил, что он тогда довольно плотно общался с участниками конференции, ему было все это интересно, хотя он тогда тоже еще не сформулировал какой-то идеи. Но в тот момент она возникла у Фролова, который понял, что биоэтика это то, что соответствует его интересам в философии науки. Он просто взял и транспонировал (как сейчас модно говорить) идею биоэтики и инициативу ее начинателей у нас из домена прикладной этики на поле междисциплинарных исследований философии науки (биологии и медицины). Будучи не просто философом, но и государственным деятелем, Фролов придал биоэтике новое значение.
У меня была личная ситуация, описанная в моей статье, посвященной юбилею Рубена Грантовича Апресяна, где я перед ним каюсь... мне дали возможность поехать в Америку изучать биоэтику, и эту возможность, вероятно, забрали у этиков. Я приезжаю в Америку, и меня все время спрашивают: «А что, Апресян у вас запрещен? Почему он не приехал?» А я не знал, почему он не приехал. Я Рубена спрашивал неоднократно, почему он не приехал. Он человек вежливый, лишнего ничего не скажет, и в данном случае предпочел дипломатично не ответить. Единственное, он подчеркнул необходимость помнить о том, что для биоэтики сделала Л.В. Коновалова и сектор этики. В какой-то момент нашей совместной приятельской жизни с Борисом Григорьевичем Ивану Тимофеевичу, который возглавил эту тематику, нужно было ехать на конференцию в США. Он готовил делегацию и почему-то не захотел брать этиков. Он пригласил людей, занимавшихся философией науки. Вероятно, поэтому подошла моя кандидатура… Как-то я попался под руку бежавшему по коридору Борису Юдину. Тот остановился и спрашивает: «В Америку хочешь поехать? – Хочу! А что там делать? – Надо сделать сообщение по биоэтике. – Что это такое? – Иди в библиотеку, почитай сам, мне сейчас некогда». Пошел в библиотеку ИНИОН, заказал несколько книг. Первой на столе появилась книга Тр. Энгельгардта мл. “Foundations of bioethics”. Она до сих пор на моем столе… Вот так начиналась биоэтика для меня и Юдина. Из полезного для истории «насилия». Можно сказать, что у Людмилы Коноваловой буквально перехватили ее тему. Она ведь была пионеркой. Правда, ее заблуждение было в том, что и дальше она интерпретировала биоэтику как прикладную этику. Она не поняла самостоятельной междисциплинарной ценности биоэтики. Более того, возглавив биоэтическое движение, И.Т. Фролов поднял его на более высокий, государственный уровень.
Мы основывались на некоторой иллюзии, точнее на регулятивном принципе, скажем так, что классические принципы и правила американской биоэтики имеют более или менее универсальное значение. Их глобализация ассоциировалась с прогрессом морального сознания в области биомедицины. Тогда это было понято. То есть это было во многих отношениях понятно для нас, больше работавших с генетиками, чем с клиническими врачами. В российском проекте «генома человека» я и Юдин были соисполнителями этической части. Юдин входил в научный совет проекта. Мы больше понимали, что происходит в трансплантологии, но плохо видели клиническую область. И работать в исследовательских областях было легко в двух смыслах. Во-первых, потому что правила и принципы понятны из общих соображений. Во-вторых, наше видение биоэтики поддерживала нарастающая волна клинических испытаний, которые делегировали западные фармацевтические компании в Россию и поддерживали основные наши институции. Как только западная фарма надавила на наши государственные и общественные институты, нас, биоэтиков, стали слышать гораздо лучше. Поэтому спрос на исследовательскую этику был естественным для России. Еще раз повторю, нас в реальную клинику не пускали. Трансплантологи пустили, а потом стали выпихивать как можно сильнее оттуда, чтоб мы туда уже больше не совались. Если говорить о том, какие направления в биоэтике сейчас развиваются в Москве, то и сегодня это все, связанное с геномными исследованиями. Там есть деньги, там можно получить какие-то гранты, там можно работать. Там нас слышат, кажется, потому что есть объективная потребность. То, что касается даже трансплантологии – нас любят, но держат в стороне.
Борис Григорьевич Юдин во многих смыслах был человеком, который умел совмещать две разные задачи, чего я не умею. Это умение представлять наше направление внутри страны и за рубежом, будь то работа разнообразных комитетов или администрирование, и, одновременно, он быть сотрудником, соавтором, исследователем. Юдин был человеком, который мог общаться с властью, и при этом никогда за его спиной никакого ореола этой власти не было. Он умел одновременно работать и с социологами из самых либеральных кругов и политиками, и в Минздраве, и в совмине. Поэтому он был таким человеком, который «сообщал эти сосуды». У него были свои идеи, они были прекрасны, и я стараюсь растолковать то, что от него осталось. Но объединять разных людей – это особая функция для биоэтики, и он был незаменим в начале биоэтики как мощ-ного движения.
Петров. Наталья Николаевна, какую роль, по-вашему, Юдин сыграл для российской биоэтики. В речи Павла Дмитриевича появилось несколько новых тем, например биоэтика как прикладная этика, и можно ли говорить об устоявшихся принципах биоэтики?
Седова. Про Бориса Григорьевича очень коротко. Для меня биоэтика началась со знакомства с ним. И, несмотря на то, что у нас не такая уж большая разница в возрасте, я всегда воспринимала его как учителя. С ним можно было разговаривать на отвлеченные темы, но потом он вдруг выхватывал и предлагал мысль, которая тебя очаровывала, захватывала, и ты ходил и все время думал об этом. Он был тактичный человек, никогда не смеялся над глупостями, которые ты мог сказать, не критиковал, а начинал обсуждать и давал возможность собеседнику самому думать. Вот это было его замечательное качество. Он не раз приезжал в Волгоград. Первый раз народ наш с интересом его слушал, а во второй раз, когда он приехал, народ уже обрадовался. Это большой показатель. Меня больше всего привлекает то, чем он занимался в последние годы жизни – его волновало состояние человека при переходе к смерти. Как взаимодействуют два мира? У меня уже после создалось впечатление, что это было «опережающее отражение», что приближающийся уход из жизни повлиял на его последние идеи. Он был оппонентом на моей второй докторской диссертации, и когда он появился в аудитории, члены совета говорили: «Сам Юдин приехал!». У него было очень уважительное отношение ко всем, кто хотя бы раз с ним познакомился. Я думаю, на развитие отечественной биоэтики его личностные качества оказали влияние. Отпечаток его личности помог биоэтике стать российской биоэтикой.
Я очень почитаю Дробницкого, который прямо написал, что философия не может быть прикладной, а биоэтика – это, в том числе, и философская дисциплина. У меня есть собственная концепция, я считаю, что биоэтика – это отдельный культурный комплекс, который вырастает из взаимодействия различных наук. Там мы выделяем теоретическую биоэтику, практическую, прикладную – это разные уровни, и на всех этих разных уровнях другие дисциплины действуют по-разному. Биоэтику можно назвать наукой, но у нее нет законов, а в каждой науке должны быть законы. В биоэтике вместо закона – принципы. Опять же, повторяю, что там, где есть выбор, господствуют принципы, а не законы. Относительно принципов – я не считаю, что они устоялись. Периодически возникают попытки дополнить четыре основных биоэтических принципа, мне это не нравится, потому что идут очень быстрые изменения, в основном, в медицине, и объяснительные гипотезы запаздывают.
Петров. Наталья Николаевна предложила еще одну тему, которая нередко обсуждается и в ваших книгах – тема смерти как специфического объекта биоэтики. Кроме того, она связана с тем, как вы описывали про ваш первоначальный научный интерес – телесность. Какую роль в биоэтике играли темы смерти и телесности?
Тищенко. Есть то, что называется «аттракторами», они привлекает внимание – это смерть, деньги и любовь. Поэтому биоэтика выбрала некоторые из них, чтобы «эксплуатировать», чтобы люди обращали на них внимание. Я хочу вернуться к тому, что Наталья Николаевна только что говорила о принципах и правилах: они появились для нас извне. Если посмотрите книжку, которая называется «Введение в биоэтику» 1998 г., то до последнего момента было искушение просто отредактировать ее, сделать второе издание уже сейчас. Но оно не получается именно из-за того, что общий взгляд на ситуацию изменился. Раньше мы с энтузиазмом принимали эти принципы и инвестировали их в наши размышления и модели преподавания. Сегодня речь идет не об отречении от этих правил, а о переосмыслении их роли. По большому счету – это лишь инструменты для того, чтобы что-то сделать. А что можно сделать? Зачем нужно автономию поддерживать? Зачем нужно быть справедливым? Ты должен понять, зачем ты это делаешь. Я думаю, что это совсем не тривиальное обстоятельство.
Возвращаясь к проблематике телесности и особого медицинского взгляда на смерть, хочется отметить, что это действительно особенное обстоятельство, и оно связано не с моим личным опытом или с опытом Бориса Григорьевича, сколько с нашим общим опытом. Я около семи лет работал профессором на кафедре философской антропологии сначала у В.С. Степина, потом у Ф.И. Гиренка и ежегодно читал от пяти до семи дипломных работ, которые так или иначе обсуждали смерть.
Я думаю, что это все-таки какой-то культурный момент, что сейчас нужно начать перестраиваться, тем более что биотехнологии стали предлагать идеи редактирования генома, и нам нужно думать не только о смерти, как о предельном существовании, но и о начале жизни. Мне очень нравится идея «натальности» Ханны Арендт. Она заключается в простом обстоятельстве, что если мы хотим сохранить этот мир, мы должны иметь в виду не только то, что уходят поколения, которые помогли нам его создать. Но и то, что приходят те, кто нас не знают, и не захотят, возможно, знать. Я говорю о простой вещи. Огромное число всяких новобранцев, энтузиастов биотехнологий никогда не слышали о том, что в Советском Союзе уже много раз обсуждали, к примеру, проблему редукционизма, разрешенного и запрещенного, проблему целостности и так далее… они пришли, и дело не в том, что они забыли об этом, они еще не начали об этом узнавать. Это новое поколение биотехнологов – свободные, спокойные, с головой, в которой ничего из прошлого не осталось. И вот этот принцип натальности, означающий, что мы живем не только перед лицом «предельного срока», о котором не хочется сильно задуматься, но и в ситуации, когда все время приходят новые поколения. Они не обязаны знать, по крайней мере они так считают, то, что до них было сделано.
У нас есть иллюзия, что мы что-то устанавливали, что-то публиковали, а они придут и не станут этого читать, потому что это записано на других носителях. Биоэтика была зациклена на конце жизни, на смерти, умирании, суициде, эвтаназии, сегодня она меняется, приобретает другие значения. И здесь их нужно отделить от просто редукционистских положений, что можно отредактировать геном человека и все будет хорошо. Этого отредактированного человека я называю «молекулярный гомункул» [3]. Раньше считали, что в сперматозоидах и яйцеклетках находится уже готовый человек, который просто растет, становится больше. И сегодня специалисты в молекулярной геномике считают, что есть в молекулярной системе человечек – гомункул. Они могут отредактировать несколько клеток, пока он представляет собой простую систему, а потом он разовьется со всеми миллионами клеток и все будет хорошо. Этот момент для меня одновременно и обескураживающий, и требующий иного понимания. Я очень опасаюсь, что новая биоэтика может забыть все, что уже было нами сделано. Это первый вариант, а другой состоит в том, что новым биоэтикам будет казаться, что все, сделанное до них, – совсем ненужные вещи. Мы видим такую тенденцию и в сокращении учебных часов, и во многом другом, что соответствует той политической и экономической структуре, которая у нас есть. Но это одновременно предполагает, что мы должны вместе с вами все ресурсы, которые у нас есть, использовать для укрепления биоэтики и, главное, все-таки копить ресурсы для будущего.
Сегодня у нас в медицинском сообществе властвует этико-правовой нигилизм, абсолютная анархия. У меня есть опыт работы по защите очень хорошего законопроекта о донорстве органов. Закона современного, лучшего, чем в Америке или Европе. Его продавили через Минздрав, а Дума не хочет даже обсуждать. У нее за спиной стоит медицинский истеблишмент, который не хочет, просто не хочет такой закон. Я встречался со многими людьми, имеющими возможность принимать решения, они мне говорят: «Да, здорово! Но этот закон слишком хорош для нас! Нам лучше оставить все как есть!» Вот в чем сейчас проблема. Но, с другой стороны, в существующей системе новый закон был бы инородным, потому что новый закон о трансплантации органов не соответствует той реальности, в которой мы живем… Придет время, колокольчик прозвенит и новые поколения тех же трансплантологов, репродуктологов будут готовы начать работу над новыми законами и правилами. Надеюсь, что они прочтут хоть толику из того, что нами сделано.
Убежден, то же самое будет с биоэтикой. Правда, на новом витке ее развития нам будет помогать не позитивный, а негативный опыт Америки. Когда там начиналась биоэтика, то ее продвигали благородные люди: врачи, философы, юристы. Они вместе работали. Потом это стало специализацией, стали защищаться диссертации, образовываться кафедры. И они стали «жевать жвачку». И сегодня в Америке отношение в клиниках и лабораториях к биоэтикам такое же, как к юристам, без которых не обойтись, но заниматься этим неинтересно. То есть биоэтика превратилась там машинерию по заполнению бумаг и аппликаций на гранты. Может быть, время придет возрождать биоэтику.
Петров. Павел Дмитриевич, что нужно биоэтике, чтобы она не превратилась в подобную машинерию в России?
Тищенко. Во-первых, биоэтика в Америке – не только машинерия, это огромная область интереснейших философских, правовых и других исследований. Машинерия бумажной работы выносит ученых во вне. Где-то в 1980-х годах американские биоэтики боролись за то, чтобы их признало медицинское сообщество. Оно их признало и переварило в формах соответствующих регламентов и практик. Просто нужно не торопиться и особенно ни рисковать самим понятием биоэтики, не напрягать сегодняшнего слушателя лишними связями.
Наоборот, может быть, нужно придумывать или даже возрождать отечественную деонтологическую этику врачевания. Говорить об этике практического сострадания. Я не знаю, как это делать. Но делать это нужно для того, чтобы не попасть под этот обездушивающий информационный потоп. Слишком много там, за рубежом, уже сделано чисто формально, по-американски. И многое из этого нам просто не пригодится. Простите мне общеполитическую ремарку. Американцы обсуждают очень важную проблему. У них ведь была огромнейшая иллюзия, что человечество движется к некоторому идеалу свободного общества. Фукуяма писал о «конце истории», и он почти настал. А биоэтика была частью этой либеральной идеологии, которая продвигала себя во все области. Но потом была чреда кризисов, которые изменили представление о цели.
Я не думаю, что нам нужно ломать все наши представления о принципах и правилах биоэтики. Они очень хорошо работают. Но нам нужно понимать, что, возможно, новая ситуация потребует каких-то новых ответов, как защищать людей и жизнь как таковую. А если вы защищаете человека, давайте будем думать, каким языком мы должны оформить определить его позиции и права. Мне кажется, что новая ситуация, несмотря на то, что она очень неприятная и связана с возможными ограничениями, таит в себе вызов. Возможно, нужно искать более понятный язык биоэтики. Я сейчас не против ни прав пациента, ни правил и принципов. Вопрос в том, что должно лежать в основании биоэтического образования врачей? Считаю, что нужно начинать с милосердия. Нужно начинать с того, что врачевание является формой солидарности. Нужно понимать, что базисные аффекты: сочувствие и сострадание не являются просто фоном морального самосознания, над которым довлеют принципы и правила. На самом деле эти аффекты – не фон, а то, в чем все происходит, а принципы и правила могут быть использованы для того, чтобы защищать пациента и врача. А в центре должно стоять милосердие. Это было жуткое заблуждение, на грани исторической ошибки, когда здравоохранение было понято как сфера услуг. Мы, как этики, должны просто настаивать, что в основе врачевания лежит солидарность, сострадание, сопереживание, сочувствие. Все эти, казалось бы, архаичные формы должны культивироваться в каждодневности врачебных интеграций.
Нужно эмоционально и аффективно подготовить человека к добродетели. А уже потом ему помогать, давая принципы и правила, чтоб он их мог защищать в спорах с кем-то. Сегодня, может быть, идеи права очень сужены и фальсифицированы в каком-то смысле. А врачевание – это деятельностное милосердие, форма социальной солидарности, например перед лицом коронавируса. Сегодня эта идея просто рухнула. Все произошедшее – это огромнейший урок. Ведь нам нужно понять, что вакцинация – это вопрос солидарности в контексте нашего общего совместного усилия противостоять общей угрозе. Именно поэтому я не понимаю аргумент Минздрава, который говорит, что не может сообщать о побочных реакциях на вакцину потому, что это коммерческая тайна. Моя точка зрения состоит в том, что они не коммерцией там должны заниматься. Вакцинация – это наш общий интерес, государственный, связанный с идей солидарности. Если проблема вакцины общегосударственная, то здесь не может быть коммерческой тайны. Все наши проблемы должны вернуться к основаниям. Мы вместе живем, и если это так, то давайте думать о совместности и солидарности. Очень характерно, что вся проблема с правами очень ограничена, но это означает и заставляет нас с вами, как философов, посмотреть вглубь и заново поднять основания врачевания. И правильно будет начинать биотическое образование не с повторения формальных принципов и правил, а с оснований – солидарность, сострадание, сочувствие, содействие. И тогда, если начать с оснований, будет понятной и схема врачевания, и триаж, и так далее. Я думаю, что это наша задача на ближайшие будущее.
Петров. Наталья Николаевна, какие философские основания биоэтики будущего?
Седова. Я бы хотела продолжить мысль Павла Дмитриевича. Я считаю, что конечно сострадание к человеку – это главный принцип. Но к какому человеку? Кто этот человек? Биоэтика не ставит перед собой целью изучение этого вопроса. А вот философия ставит. Но в самой философии сейчас, как мне кажется, большой провал, все в затруднении, объяснительных гипотез нет, теорий как таковых, которые бы имели большое число сторонников, нет. Я думаю, что философский застой, который в мире царит, вредно сказывается на биоэтике, потому что она корнями своими уходит в философию, она из нее вырастает. Поэтому важно разработать философское основание для того, чтобы говорить о том, какой будет биоэтика будущего [1].
Петров. Какие есть концептуальные возможности для философии, чтобы осмыслять мир, который сильно меняется? Я осматриваю гуманитарный горизонт и вижу: ингуманизм с идеей эмулирования человеческого сознания, или постгуманизм, который пытается найти бессмертие… Как вы считаете, где сегодня искать эти философские основания биоэтики?
Седова. Я уже призналась, что в философии сейчас застой. Таким образом, невозможно сейчас понять, какие доминантные идеи философии помогут био-этике и дадут направление развития. Поэтому сейчас и биоэтика, и философия приобрели персонализированный характер. То есть: вот я просто так размышляю, меня что-то интересует, я этот предмет исследую, я прихожу к хорошей мысли, хорошему пониманию, но этого недостаточно для того, чтобы эта идея стала общезначимой, чтобы она стала действительно философской. А вот целостности, по-моему, не хватает. Типичная ситуация для смены парадигм.
Тищенко. Выскажу несколько анархически реакционную мысль. Думаю, что нужно заново перестраивать начальную школу. И в начальной школе воспитывать вертикальный взгляд ученика к своему учителю. Потому, что было и есть слишком много пустозвонного либерализма, спровоцировавшего тот развал мысли, отсутствие идей, на которые можно опираться. В студенческом сообществе нет способности воспринимать идею аутентично. У меня есть работа, которая называется «Антропология диктанта», где я пытаюсь прописать, что дает диктант для самосознания, свободного будущего самосознания. Сначала диктаторское подчинение себе своей моторики: сидеть, писать, держать правильно ручку. Без этого нельзя воспринимать другого, который тебе что-то дает. Иначе ты воспринимаешь только то, свое, коротенькое и маленькое, что у тебя есть в голове [2].
Сейчас у нас пытаются реинвестировать авторитарную структуру под названием Зиновьев. Но Зиновьев – это воплощение авторитарного самосознания. Не был свидетелем того времени, когда Зиновьев уезжал. Я застал только тот момент, когда на научном совете Ильенков ругался с логиками и говорил, что «ваш агент Зиновьев за рубежом работает». Но тогда было время, когда была «пирамида», были лидеры и последователи. Это все рухнуло. Почему Зиновьев так возненавидел институт философии? Вернувшись, он застал огромную логическую школу, представители которой считали его устаревшим. Но за время его отсутствия, за 25 лет его нахождения за рубежом, его ученики стали другими, они стали мировыми светилами, как Смирнов В. А., Карпенко А.С. или Анисов А.М.
Что же нам сегодня делать? По крайней мере, искусственно ничего не вернешь. И, тем более, с этими ребятами, у которых в голове сейчас по несколько логик. И здесь, в этом многообразии логик, огромная проблема философии. Если возвратиться к вопросу о философских основаниях, то я сейчас пишу статью про «натальность», про то, что все время рождается, и про то, как мыслить это рождающееся. У меня статья вышла, которая называется «Был ли я эмбрионом?». Слово «был», философское «есть» – бытие – определяет связку того, кем я был, со мной, который есть сейчас и который завтра будет.
Но здесь нет линейной связи. Я думаю, что современная философия и биоэтика возникают, прежде всего, как проблемоцентричные структуры. Проблемы, которые возникают в клинической практике, обсуждаются на языке принципов, например, на языке автономии. Сразу оказывается, что одного решения нет. Тогда возникает вопрос: как мы можем принимать решения в ситуации, когда одного решения нет?
Для меня связь всех возможных философий с биоэтикой осуществляется через конкретные проблемы: рождение, жизнь, смерть, сознание, пересадка органов. Это и есть последнее основание связи разных философских традиций. Если общей проблемы нет, то нет ничего общего. Когда некоторые философы или богословы пытаются предложить общие основания для решения моральных проблем, то всегда оказывается, что это лишь их частное мнение. Уяснение этого обстоятельства закрывает возможность единой философии, направляющей биоэтику. Например, превосходная работа Поля Рикера о пациенте и его внутреннем опыте. Несмотря на всю свою продвинутость, он не заметил, что у пациентов может быть другой язык, чем у врачей, что у общества могут быть разные языки.
Нас связывают проблемы, нас связывает чувство милосердия и взаимной солидарности. Мы собираемся вместе не для того, чтобы каждый из нас урвал какой-нибудь кусок гранта. Мы собираемся из-за солидарности перед лицом определенной экзистенциально значимой проблемы. И тогда каждый аргумент может идти из разных философских школ. Биоэтическое обсуждение – это нестабильная ситуация. Я думаю, что есть две формы стабильности, которые часто путают. Первая – это форма мавзолейной традиции, где все заморожено в формалине и любое изменение рассматривается как распад. Нельзя же подумать, что изменение в мавзолее – это изменение, продвижение к чему-то лучшему. Другой вариант – изменения в жизни, которые являются необходимой частью самой жизни, изменения, поддерживающие стабильность потока от рождения к смерти, обеспечивающие самобытность, самоидентичность, которая невозможна без взаимного признания. Биоэтика – это и есть культура поддержания стабильности в потоке биотехнологических трансформаций.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Редакция журнала «Биоэтика» поздравляет Павла Дмитриевича Тищенко с 75-летием!
Наука всегда существовала благодаря совместным усилиям ученых. Мы рады, что уже многие годы можем вместе с Павлом Дмитриевичем развивать биоэтику в России. Желаем ему с той же интеллектуальной смелостью и глубиной продолжать исследовать тайны человеческого существования, вовлекая все новые поколения исследователей в дело науки!
About the authors
Pavel D. Tishchenko
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Email: pavel.tishchenko@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7304-7027
Scopus Author ID: 57192995222
ResearcherId: V-7056-2018
DSc in Philosophy, Chief Researcher Department of Humanitarian Expertise and Bioethics
Russian Federation, MoscowNatalya N. Sedova
Volgograd State Medical University; Volgograd Medical Research Center
Email: nns18@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6775-0787
Scopus Author ID: 378269
Doctor of Science (Philosophy), Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head of the Department of Philosophy, Bioethics and Law with a course of Sociology of Medicine, Doctor of Philosophy, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Head of the Department of Philosophy, Bioethics and Law with a course in Sociology of Medicine, Head of the Higher School of Medical Humanities of the Institute of Public Health of the Volgograd State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Head of the Laboratory of Ethical, Legal and Sociological Expertise in Medicine of the GBU VMSC, Member of the Council on Ethics of Clinical Research of the Ministry of Health of the Russian Federation
Russian Federation, Volgograd; VolgogradKirill A. Petrov
Volgograd State Medical University; Volgograd Medical Research Center
Author for correspondence.
Email: petersoncyril@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4178-1726
Senior Researcher, Department of Ethical, Legal and Sociological Expertise in Medicine, Volgograd Medical Research Center, PhD in Philosophy Associate Professor, Department of Philosophy, Bioethics and Law with the course of sociology of medicine, Volgograd State Medical University
Russian Federation, Volgograd; VolgogradReferences
Supplementary files