Библиография
1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. - 448 с.
2. Бубер М. Я и ТЫ // Квинтессенция. М., 1992.
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. - 136 с.
4. Делез Ж. Различие и повторение / Пер. с фр. Н.Б. Маньковской. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. - 384 с.
5. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. М., 1964. Т. 3. - 799 с.
6. Кассирер Э. Философия символических форм. В 3-х томах. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
7. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980. - 358 с.
8. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М., 1981. - 479 с.
9. Луман Н. Введение в системную теорию / Пер. с нем. К. Тимофеевой. М.: ЛОГОС, 2007. - 360 с.
10. Мейясу К. После конечности. Эссе о необходимости контингентности. М.: Издательство «Кабинетный ученый», 2015. - 196 с.
11. Молчанов В.И. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М.: Модест Колеров и «Три квадрата», 2004. - 328 с.
12. Невважай И.Д. Свобода и знание. Саратов, 1995. - 205 с.
13. Невважай И.Д. Взаимодополнительность конструктивизма и реализма в эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2015, №1. С. 83-97.
14. Огурцов А.П. Философия науки: двадцатый век. В 3-х томах. Т.1: Концепции и проблемы: исследовательские программы. СПб.: Изд. дом «Мир», 2011. - 503 с.
15. Стросон П.Ф. Индивиды. Очерк дескриптивной метафизики. Калининград: Изд-во РГУ им. И.Канта, 2009. - С. 328.
16. Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь: Силе Пресс, 2015. - 152 с.
17. Laruelle F. Les philosophies de la difference. Introduction critique. P.: Presses Univ. De France, 1986. - 249 p.
18. Spencer Brown. Laws of form. N. Y.: E.R. Dutton, 1979. - 141 p.
19. Vaihinger H. The Philosophy of “As If”: A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind / trans. by C.K. Ogden, New York: Harcourt, Brace & Co., 2035. - 370 p.
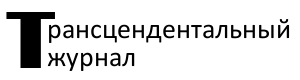
Комментарии
Сообщения не найдены