Библиография
1. Гуссерль, Эдмунд. Картезианские медитации. М. 2010. Пер. Молчанова В.И. Мерло-Понти, Морис. Видимое и невидимое. Пер. с фр. Шпараги О. Н. - Минск, 2006.
2. Ницше, Фридрих. Рождение трагедии//Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. Том 1. Пер. Рачинского Г.А. М. 1996.
3. Сартр, Жан-Поль. Бытие и Ничто. Пер. с фр. В. И. Колядко. - М., 2000
4. Сартр, Жан-Поль. Воображаемое. Пер. с фр. М. Бекетовой. СПб. 2001.
5. Сартр, Жан-Поль. Трансценденция эго. Пер.с фр. Д.Кралечкина. М., 2012
6. Эпикур. "Письмо Менекею"// Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983. С. 305. Пер. М. Л. Гаспарова.
7. Held, Klaus. Das Problen der Intersubjectivit?t und die Idee einer ph?nomenologischen Transzendentalphilosophie. In: Ulrich Claesges, Klaus Held (ред.): Perspektiven transzendental-ph?nomenologischer Forschung (Phaenomenologica 49), The Hague, c. 3-60.
8. Levinas, Emmanuel.Otherwise than Being, or Beyond Essence, trans. Alphonso Lingis, Pittsburgh, 1981.
9. Marion, Jean-Luc. The Erotic Phenomenon, trans. by Stephen E. Lewis, Chicago, 2007.
10. Scheler, Max. Wesen und Formen der Sympathie. Die deutsche Philosophie der Gegenwart, Bern/M?nchen, 1973.
11. Tengelyi, Laszlo. Welt und Unendlichkeit. Zum Problem ph?nomenologischer Metaphysik, Freiburg/M?nchen 2014.
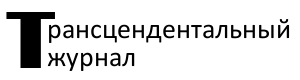
Комментарии
Сообщения не найдены